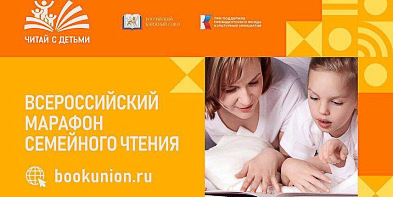Глава 8
Станция метро ВДНХ: конечная. Дом родной. Двести метров в длину, и на них – двести человек. Места как раз: меньше – не надышишься, больше – не согреешься.
Закопчённые мраморные колонны развесистые, в арках между ними развёрнуты древние и изношенные армейские палатки: в каждой – семья, в некоторых – по две.
Семьи эти можно запросто перетасовать, никто, наверное, разницы и не заметит: когда живёшь вместе двадцать лет на одной станции, когда между твоими тайнами и соседскими, между всеми стонами и всеми криками – брезента в один слой, так получается.
Где-то, может, люди бы съели друг друга уже – зависть ведь, и ревность к богу, что он чужих детей больше любит, и невозможность разделить с другими своего мужа или жену, и жилплощадь вполне стоит того, чтобы за неё удавить; но не тут, не на «ВДНХ». Тут вышло как-то просто – и по-свойски.
Как в деревне или как в коммуне. Нет чужих детей: у соседей здоровый родился – общий праздник; у тебя больной – помогут тянуть, кто чем. Негде расселиться – другие подвинутся. С другом подерёшься – теснота помирит. Жена ушла – простишь рано или поздно. На самом деле ведь никуда она не ушла, а тут же осталась, в этом же мраморном зале, над котором сверху навалено миллион тонн земли; разве что теперь за другим куском брезента спит. Но каждый день будете встречаться с ней, и не раз, а сто. Придётся договориться. Не получится представить себе, что её нет и не было. Главное – что все живы, а там уж... Как в коммуне или как в пещере.
Путь-то отсюда был – южный туннель, который вёл к «Алексеевской» и дальше, в большое метро, но... Может, в том и дело, что ВДНХ была – конечная. И жили тут те, кто не хотел уже и не мог никуда идти. Кому дом был нужен.
С обоих концов зал станции был обрублен по эскалаторы – сами замуровали и законопатили себя внутри, чтобы с поверхности воздух отравленный не тёк... Ну и от гостей всяких. С одной стороны, где новый выход, – наглухо. С другой, где старый, – оставили шлюз для подъёма в город.
Там, где глухая стена, – кухня и клуб. Плиты для готовки, хозяйки в фартуках суетятся, варганят обед детям и мужьям; ходит вода по трубкам угольных фильтров, журчит, сливаясь в баки, почти прозрачная; то и дело чайник свистеть начинает – со смены с ферм забежал гонец за кипяточком, руки о штаны вытирает, ищет среди кухарок свою жену, чтобы за мягкое её прихватить, о любви напомнить, и полуготового чего-нибудь кусок схарчить заодно досрочно.
И плиты, и чайники, и посуда, и стулья со столами – были все не свои, а колхозные, но люди к ним бережно отнеслись, не портили. Не напасёшься иначе.
Всё, кроме еды, принесли сверху: в метро ничего толкового не смастерить. Хорошо, что мёртвые, когда жить собирались, впрок себе всякого добра наготовили – лампочек, дизель-генераторов, проводов, оружия, патронов, посуды, мебели, одежды нашили прорву. Теперь можно за ними донашивать, как за старшими братьями и сёстрами. Надолго хватит. Во всём метро народу – не больше пятидесяти тысяч. А в Москве раньше жило пятнадцать миллионов. У каждого, выходит, таких родственников – по триста человек. Толпятся беззвучно, протягивают свои обноски молча: бери мои, мол, бери-бери, новые почти. Я-то из них уже вырос всё равно.
Проверить только их вещи дозиметром – не слишком щёлкает? – поблагодарить и можно пользовать.