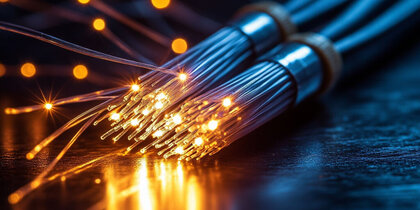Глава 47
Пошуршало в голове, поперхало и смилостивилось:
– О! Сталкер? А мы тут твоему деду уже галстук примеряем. Опаздываешь.
– Отменяйте операцию! Приём! Отменяйте! Они не собираются Театральную брать! Приём! У них там голод... На линии. Они эти блокпосты... Ставят... Чтобы перебежчиков ловить...
Дитмар издал какой-то невнятный звук: то ли харкнул, то ли хрюкнул.
– Ты что, думаешь, просветил меня сейчас, а?
– Что?
– Где мина, кретин? Мину ты установил?
– Ты не слышал меня? Не будет никакого вторжения на Театральную!
– Ну как же... – теперь прояснилось: это Дитмар смеялся. – Как же не будет? Обязательно будет!
* * *
– Эй, парень! Тебе чего надо?
Артём посмотрел на того, кто спрашивал: малиновая звезда плавала в мути. Пожал плечами. У арок косились усталые древки с увядшими красными знамёнами. Арочные своды были чуть по человеческий рост обрезаны табличками: «Красная линия. Государственная граница».
– Иди давай. Хорош пялиться.
Офицер не спускал глаз с его рук. Красноармейцы за его спиной ждали команды. Чего мне надо, спросил себя Артём. Нельзя ему ни в коем случае: поднять руки и шагнуть вперёд. Нельзя ему: идти за этим несчастным Умбахом туда, где Петру Сергеевичу сейчас будут кишки на палку накручивать. Нельзя признаться, что радист-диверсант, которого искали, не Умбах, а вот он, Артём. Потому что его, Артёма, не пустят к Умбаху всё равно, а Артёмовы кишки зато будут следующими. Тогда что? Тогда забыть про Умбаха, про слышанное им или не слышанное в туберкулёзном московском эфире, про Гомера забыть, который там где-то, на Пушкинской, ждёт его в петле, про Дитмара с его заданьицем, про людей, которые вот сидят за его спиной сейчас и любуются этой дрянью и которых будут скоро резать в штыковой, попрощаться с малиновой звёздочкой и пойти гуляючи к Новокузнецкой.
А за его спиной пускай творится что угодно – на спине глаз нету. А что там, на Новокузнецкой? Ничего. То же, что и на ВДНХ. Пустота. Духота. Грибы. Такая жизнь, которую Артёму положено тащить, не переча, пока не сдохнет. Сделать круг, вернуться к Ане. Когда-нибудь, по чужим мёртвым документам. Документы чужие, а жизнь своя будет – своя, Артёмова, прежняя – чёрная, перекрученная и сухая, как сгоревшая спичка. Хочет он такую жизнь? Может он её?
Ольга Айзенберг сняла лиф. Прожектора, без рук Петра Сергеевича осиротелые, выцеливали её неумело – слишком резко, слепя, отбрасывая на стены яркую черноту по Ольгиному контуру. Труба играла слишком быстро, слишком тонко, тошнотворно, закручивала кишки, и под неё бился, крутился бешено женский силуэт на шесте, как на кол насаженный.
– Оглох? Вали давай!
А ведь Артём, пока Умбаха искал, пока шёл сюда вместе с Гомером, забыл ненадолго, как это: когда идти некуда. Старик дал ему что-то. Направление хотя бы. Прости, дед. Как тебя спасти? Сделать, как чёрт велит? Помочь ему резню устроить? И что, неужели тебя отпустят тогда? Не отпустят, дедуль. Вот ведь выбор: что ни берёшь, одна безнадёга.
– А ну обыщите этого!
Ноги сами сделали шаг назад. Ноги ещё не решили ничего. В зале заоборачивались, зашикали.
Кто-то отдыхающий, в железнодорожной форме, зацепился за Артёма. Не Артёма ли он на самом деле томительно ждал, скучно наблюдая за актриской, извивающейся на колу? Если в другую сторону пойдёшь, вперёд, обратно не вернёшься, знали ноги. Телу было рано умирать. А душе обратно в ту старую жизнь не моглось. Не хочу от неё детей, понял Артём. Понял просто и насовсем. Что там, на ВДНХ? Там ничего. Там всё, чем Артём не стал. И всё, чем он лучше сдохнет, чем станет. Умом заставил себя поднять руки – одна поползла чуть быстрее. Пот шёл по вискам, затекал щёлочью в глаза, щипал. Плыла в нём малиновая звезда. Может, тебя не убили ещё, Пётр Сергеевич? А? Я ведь к тебе через полметро шёл. Пришёл вот. И теперь отсюда мне дальше некуда. Давай тебя не убили?
– Имею информацию.
– Что ты там бормочешь?!
Артём чувствовал паучий взгляд из зала на себе кожей. Поэтому повторил так же глухо:
– Имею важную информацию. О готовящейся диверсии. Со стороны Рейха. Хочу переговорить. С офицером. Госбезопасности.
– Не слышу!
Артём утёр пот и сделал шаг вперёд.